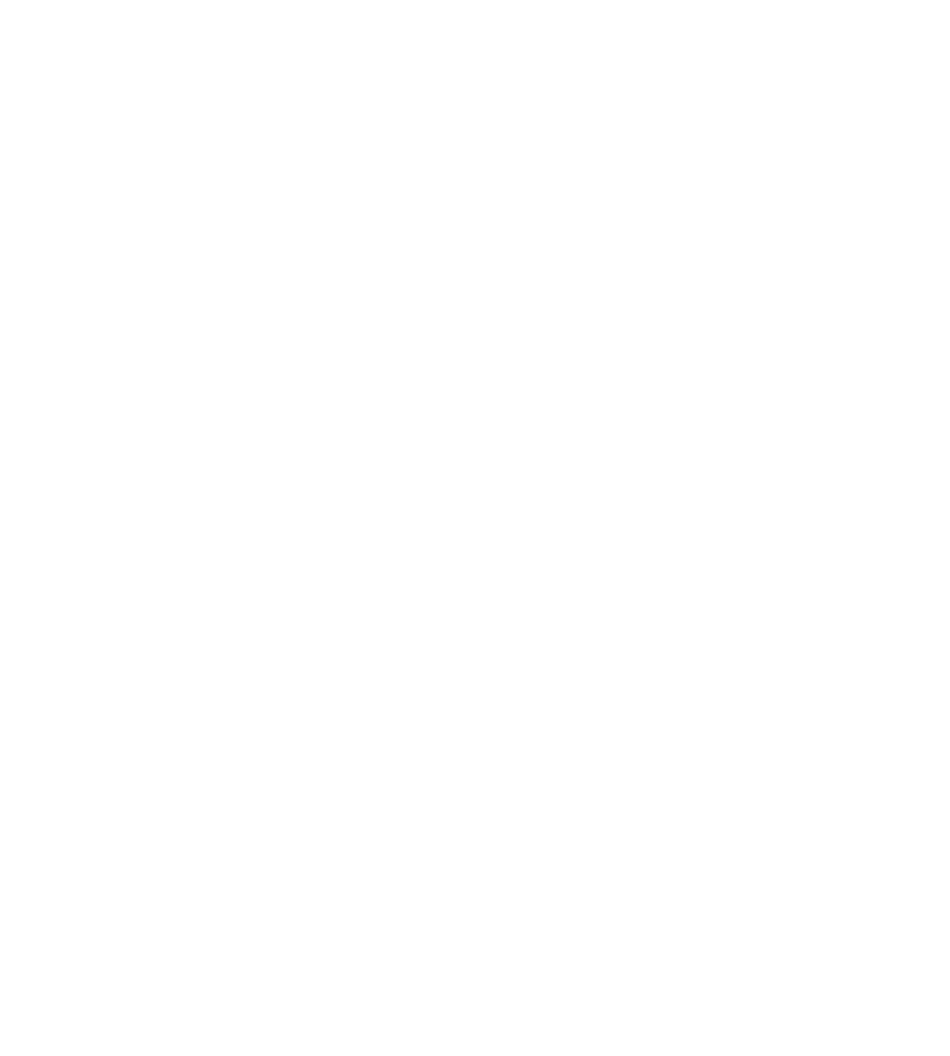Я начал писать в марте 1978 года. Мне захотелось отравить монаха. Думаю, что всякий роман рождается от подобных мыслей.
Цитата принадлежит Умберто Эко, который рассказывал о процессе написания своего главного произведения «Имя розы». Где-то несколько недель назад я наконец-то дочитала этот огромный труд, нажала на кнопку «выйти», с удовлетворением увидела, как теперь над обложкой написано «закончено», и закрыла свой планшет. Ох уж эти современные книги.
Скажем прямо, я гордилась собой. Особенно гордилась тем, что не бросила роман на полпути и не остановилась, когда первые сто страниц мне показались чересчур тяжёлыми. К счастью, дальше роман читался очень легко и приятно. Я не могла понять, это я привыкла к средневековому слогу или слог перестал быть средневековым? Я даже пошутила об этом с подругой, мол, это синьор Умберто специально написал первые несколько страниц сложным языком, чтобы отсеять читателей. Как же я удивилась и ещё больше возгордилась, когда нашла подтверждение своих слов у самого Эко:
Прочитав рукопись, мои друзья из издательства предложили мне подсократить первые сто страниц, показавшиеся им чересчур серьёзными и скучными. Я моментально отказался. Потому что был убеждён, что тот, кто собирается поселиться в монастыре и прожить в нём семь дней, должен сперва войти в его ритм. Если это ему не под силу — значит, ему не под силу прочитать мою книгу. Такова очистительная, испытательная функция первой сотни страниц.
А я убеждена, что если кто-то и хочет прочитать про убийства в монастыре, то должен сделать это исключительно из собственного желания, а не по наводке из интернета. Поэтому рассказывать о самом произведении я не буду. Я расскажу о своём опыте прочтения.
Я и представить не могла, что чтение про средневековую жизнь в монастыре может быть таким увлекательным. У. Эко буквально разрисовал буквенное полотно какого-нибудь Босха и накинул столько средневековых фактов, что я уже почувствовала себя медиевистом. Ко всему этому ещё и дополнительным пластом наслаивается история многочисленных убийств. Мне кажется, что У. Эко проделал работу не меньшую, чем автор «Улисса».
К слову, надо отметить, что У. Эко не раскрыл полностью все убийства, как того требует жанр. В своих «Заметках на полях» он часто говорит о разных интерпретациях и о том, как не хочет полностью раскрывать замысел книги. В целом, «Заметки на полях» выглядят как пособие «Как создать образ эксцентричного автора».
Два года я отказывался отвечать на бессмысленные вопросы типа: 'У тебя открытое произведение или закрытое?' Почём я знаю. Это ваша проблема, а не моя.
Сам У. Эко занимался семиологией и потому любил знаки. Расскажу о самых очевидных. О названии он говорил следующее: роза как символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у неё почти нет. С другой стороны, роза символична своим многослойным построением, намекая и на форму, и на содержание романа.
Ещё одна символическая фигура — слепой старец Хорхе.
Все меня спрашивают, почему мой Хорхе и по виду, и по имени вылитый Борхес и почему Борхес у меня такой плохой. А я сам не знаю. Мне нужен был слепец для охраны библиотеки. Я считал это выигрышной романной ситуацией. Но библиотека плюс слепец, как ни крути, равняется Борхес.
И символичен, конечно, «мировой пожар», о котором я не могу ничего больше сказать!